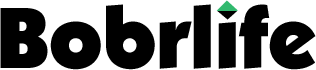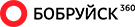По Муравьевской цокали копыта… С чего начинался общественный транспорт в нашем городе
515 0

За пять лет до наступления прошлого века основным и единственным видом общественного транспорта в нашем городе на Березине были, конечно, извозчики – экипажи с управлявшими ими кучерами. Причем делились они на легковых и ломовых. В первом случае возница перевозил седоков и их поклажу, во втором – транспортировались грузы. Для пассажиров разница, отражавшаяся на их кошельке, была только в расстоянии, на которое они ехали, и упряжке лошадей – одной или двух.
Как и у такси, у них была такса
В конце ХІХ века от железнодорожной станции Бобруйск в центр города на одноконном экипаже можно было доехать за 30, а на пароконном – за 45 копеек, такие же поездки от станции Березина оценивались соответственно в 20 и 35 копеек. В центре тогда находились гостиницы «Гранд-отель» и «Европейская», «Лондон» и «Петербургская», «Рига» и «Эрмитаж», где и хотели остановиться приезжие, если у них не было бобруйских родственников.
За поездку во все остальные части города, предместья и на окраины его, исключая места, для которых была установлена особая плата в один конец: 20 копеек – на одноконном и 30 копеек – на пароконном экипаже, а за лишнего пассажира доплачивалось по 5 копеек.
За проезд по времени (в том числе и простой в городе, предместьях и на окраинах его), исключая вокзал и пароходную пристань, платили по 40 и 60 копеек соответственно. Плата за первый час производилась полностью, хотя бы извозчик был занят и менее часа, а за езду сверх часа плата взималась за каждые полчаса, причем при расчете каждые 15 минут сверх всего времени считались за 0,5 часа.
За поездку в слободки, в лагери, до кирпичных заводов в один конец надо было заплатить 30 и 50 копеек соответственно. Кроме того, за езду в первые два дня Рождества Христова, Святой Пасхи и Нового года плата в час составляла 60 копеек и 1 рубль соответственно.
Были в транспортном обслуживании начала прошлого века и любопытные нюансы как для пассажиров, так и для извозчиков. Плата за проезд днем и ночью, например, была одинаковая. Кучер обязан был везти в пароконном экипаже не более трех, а в одноконном – не более двух пассажиров. Плата по таксе определена за двух пассажиров; а за каждого лишнего при поездках нужно было доплачивать за конец и в час: в пароконном – по 10 копеек, а в одноконном – по 5 копеек. Дети, сидевшие на руках и не занимавшие в экипаже отдельного места, не учитывались в числе пассажиров.
И пряником, и кнутом (не буквально!)
Иногда по праздникам сегодня можно видеть, как стражи порядка на дорогах дарят цветы женщинам-водителям или памятки мужчинам-потенциальным лихачам о соблюдении правил дорожного движения. Возможно, вы не поверите, но 130 лет назад бобруйским балаголам Гекелю, Гельфанду, Мостовичу, Смольскому, Стругачу, Хаймовичу и Шишко Минским отделом Российского общества покровительства животным были вручены похвальные листы – за отличное содержание лошадей. Причем среди их хозяев были как пассажирские лихачи, так и грузовые ломовики. Но не всем же быть в передовиках гужевого транспорта…
К сожалению, не все извозчики в нашем городе конца ХІХ века поощрялись. Многие наши земляки «на колесах» привлекались и к ответственности за нарушения. Настоящим грозным инспектором дорожно-патрульной службы был для них в 1891 году сотник А. Урбанович. Это он «за быструю езду вскачь с большим возом на больной лошади» наложил на Иоселя Гутмана штраф в 15 рублей. Сегодня этого представителя младшего полицейского чина непременно признали бы активным защитником животных. Судите сами: только за работу на больных лошадях он подверг штрафам от 50 копеек до 1 рубля Нохима Куксина и Шмуля Карасика, Лейбу Френкеля и Давида Вольфсона, Ицку Жукова и Гиршу Иткина, Шнеера Воронгука и балаголов Плоткина и Лившица.

Еще большими денежными суммами – от 2 до 5 рублей – поплатились лихачи и ломовики Сруль Эльпман и Мордух Готкин, Афроим Соркин и Мендель Шафер, Иосель Арон и Борух Анцель, Гирша Горелик и Фисель Ниссенбаум, а также извозчики Ножик, Шпокар, Назик, Маскик. Едва погасили наложенные 10-20-рублевые штрафы нарушители правил и мучители животных Афроим Эшисбург, Абрам Комиссаров, Шмуль Клейнер и Зельман Кавалерчик, ездившие на больных лошадях. Еще более суровому наказанию – аресту на две недели – подверглись Сроль Беркович и Рубин Рубинчик, оставившие «павших лошадей своих незарытыми». И это было правильно, ибо существовало специальное постановление городской власти, предписывавшее обязательные нормы безопасности дорожного движения, санитарного состояния и другие.
Не либеральнее техосмотра
Познакомимся с некоторыми пунктами правил дорожного движения конца позапрошлого столетия, когда улицы Бобруйска не были заполонены железными конями, фыркавшими выхлопными газами. Для хозяев же их живых четвероногих собратьев тоже существовало немало обязательных предписаний. Одно из них, например, гласило: «Езда по тротуарам воспрещается. В видах сохранения в целости дерев и фонарей, имеющихся на обочинах улиц и тротуарах, воспрещается привязывать к ним лошадей». Строго контролировалось, как мы видели выше, и следующее: «Никто из извозчиков не должен выезжать с лошадьми норовистыми, хромыми, слепыми на оба глаза, затертыми и вообще больными и к езде негодными». Коротко, но емко предупреждались владельцы гужтранспорта: «Извозчик, находясь в езде и на биржах, не должен быть в пьяном виде. Курить во время езды извозчикам воспрещается». Теперь сравните, насколько либеральнее нынешние ПДД для наших водителей за рулем – они и курят, и по мобильнику говорят во время движения.
Были и другие требования, обязательные для исполнения представителями единственного тогда вида общественного транспорта в нашем городе на Березине. Например, извозчики, держась правой стороны, должны были ездить только рысью и осторожно, в особенности при выезде из дворов, на углах улиц и перекрестках, при поворотах и переезде с одной стороны улицы на другую. Запрещалось ездить наперегонки, наезжать на другие экипажи, ездить рысью «с тяжестью». А еще воспрещалось оставлять свои экипажи и отходить от лошадей, сходиться вместе на тротуарах, «преследовать обывателей назойливыми предложениями своих услуг, позволять себе над проходящими насмешки и вообще нарушать общественный порядок и тишину».
Существовали определенные установления и по, скажем так, материальной части, особенно в тогдашних пассажирских перевозках. Извозчичьи экипажи должны были быть прочны и содержимы в исправности, для чего освидетельствовались по распоряжению начальника полиции «при члене городской управы» и, если оказывались ветхими, то задерживались и допускались к движению только по исправлении недостатков. Отдельным пунктом было записано: «Если от непрочности экипажа произойдет несчастие с седоком, то хозяин того экипажа подвергается ответственности по закону». Вот такой своеобразный техосмотр! А еще было правило, которое вполне можно позаимствовать нынешним последователям бобруйских балаголов – таксистам. Гласило оно буквально следующее: «Извозчики должны быть одеты в приличные кучерские армяки, шляпы, шапки и кушаки, по возможности одного образца – армяки летом серые, зимой черные. Воспрещается выезжать в оборванной и некучерской одежде».
Вези меня, извозчик!
А куда ездили бобруйчане минувших столетий? Если учесть, что со строительством первоклассной крепости город наш довольно разросся, то добираться на его форштадты, хутора и в слободки помогали, конечно, балаголы. Наиболее населенными были к началу ХХ века Минский и Березинский форштадты, Слобода Пески, Лагерная Слобода и Пьяная Слободка, хутора Млынок, Зеленка, Кривой Крюк и Луки, куда пролегали наиболее популярные маршруты. Естественно, с железнодорожных вокзалов станций Березина и Бобруйск, с речной пристани доставляли пассажиров тоже извозчики. Однако цокот копыт по мостовой слышен был только на центральных Шоссейной, Пушкинской, Муравьевской и в районе рынка. Остальные улицы были песчаными.

Пока цитадель наша не стала крепостью-складом, основными клиентами пассажирского извоза были, естественно, офицеры. Они добирались на извозчике до мест службы, убывали с нее в ресторан гостиницы «Березина» или офицерское собрание, возвращались к жилищам или отправлялись с дамами на прогулку аж на Белый Берег. Летом колеса пролеток вязли в песке, осенью и весной преодолевали мокрое месиво, так как мостовых практически не было.
Конечно, булыжник уже не вернется на наши улицы – более современные материалы и технологии похоронили его, но он остается в нашей памяти. Автор лет двадцать назад даже увековечил его в книжке об истории пожарной охраны Бобруйска «Камни Пожарного переулка». Да, тогда в тихом закоулке, где и сегодня располагается дореволюционное пожарное депо, можно было еще увидеть фрагменты настоящей булыжной мостовой начала ХХ века, по которой ездили бобруйские балаголы.
Как писал Сергей Граховский в повести «Рудобельская республика», еще и после революции связь окрестностей с Бобруйском поддерживали балаголы и «успевали обеспечить все их потребности».
По данным переписи 1926 года, в Бобруйском округе насчитывалось 4 местечка и 6 торгово-промышленных сел, в которых преобладающим было еврейское население. Интересно, что «с постепенным расширением рельсового пути, установлением по шоссейным дорогам автобусного движения, а главное, с падением частной торговли» стал исчезать извозный промысел с традиционными для Бобруйщины балаголами. Но еще в 1928-м наш знаменитый писатель Михась Лыньков издал рассказ «Беня-балагол», в котором зафиксировал начинавшую забываться профессию. А еще с той поры остался бобруйский анекдот. Один балагол наставлял своих пассажиров: «Когда лошадь везет в гору, надо сойти с подводы, это – милосердие к животному; когда она везет с горы – надо сойти с подводы, так как ехать в ней опасно; когда подвода катит по гладкой дороге, тоже надо сойти – это ведь одно удовольствие пройтись пешочком». «Когда же пассажирам следует сидеть на подводе?» – спросили балагола. «Когда буду кормить лошадь», – ответил тот.
Александр Казак
Иллюстрации из открытых источников интернета